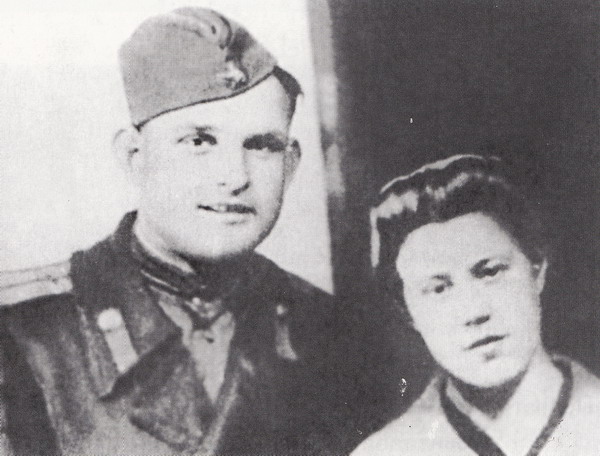Всю игру творилось нечто невообразимое. Тысячи болельщиков вздыхали и стонали, вскакивали с мест, раскачивались в такт друг с другом, вскидывали кверху руки, хватались за головы, нашёптывали что-то сокровенное, вроде молитвы. Взвивались шарфы, знамёна, летели ленты, серпантин, гудели трубы, стрекотали трещотки, грохотал барабан. По трибунам прокатывались людские волны. Вибрирующий на грани слуха гул уносился под купол и, отразившись от него многоголосым эхом, соединяясь с новыми овациями, свистом, гвалтом, перерастал в сплошное неистовство. Но и оно порой обрывалось затишьем. Тогда становились слышны упругий стук мяча о жёсткий деревянный настил, скрипы и дребезг колец, всплески сеток, реплики игроков, почти непрекращающаяся тренерская брань, отрывистые судейские свистки, гундосый рёв сирены и какой-то отстранённо безразличный голос диктора. Но стоило раздаться с трибун одному единственному хлопку, возгласу, как дворец вновь вскипал до предельной ярости или ликования... Потом все вместе отсчитывали секунды до окончания встречи, а потом, смешав милицейское оцепление, зрители хлынули на площадку, где, точно дети, только-только ощутившие победу, бесновались высоченные могучие парни. То, схватившись за плечи, они образовывали подпрыгивающий или танцующий вприсядку хоровод, то кидались врассыпную, срывали с себя майки и швыряли в чащу вскинутых навстречу нетерпеливых рук, жаждущих заветного сувенира, то выхватывали у поклонников флаги и, размахивая ими, носились по площадке, то брали на руки старшего тренера и долго качали и подбрасывали его, потом растрёпанного, растерянного и счастливого ставили на пол, а пол колыхался и уходил у него из-под ног. Беспрестанно, словно блеском молний, разрывающих на части наэлектризованное беспокойством пространство, озарялись фотовспышками сферы трибун, на которых и помимо этого что-то взрывалось, гремело, скрежетало. Грохотал барабан, гудели трубы, летели вниз разноцветные ленты.
Потом во всю мощь грянул государственный гимн. Прожектора скрестились на пьедестале — там, не стесняясь слёз, плакали победители.
Сколько дорог выпало Игорю Горелову, сколько им было передумано под шум колёс. Когда-то давным-давно, подростком, он специально приходил к столичной трассе, подолгу смотрел на проносящиеся мимо большие и красивые автобусы и мечтал уехать на одном из них покорять страну и мир. В том, что у него это получится, сомнений не возникало. Теперь ту же самую дорогу он видел с другой стороны, из окна большого и красивого автобуса, но при этом, как ни странно, всё чаще вспоминал себя, паренька из прошлого. А ещё он видел обочину и цветы за канавой на пригорках.
Однажды они со старшим тренером остановились в таком месте. Была осень, ветер гнал пыль вдоль трассы, на макушках деревьев шумно гомонили готовящиеся к ночлегу галки. Игорь всмотрелся и увидел, как много их было, как усеяны были ими еловые и осиновые ветки. Чёрные птицы, множество чёрных птиц на чёрных, будто бы насквозь промокших, мёртвенно холодных ветках. И какое-то неясное волнение, гнетущее сильнее и сильнее с каждым мгновением, подступало к мыслям, разуму, обволакивая всё своей отчаянной безысходностью.
Игорь подумал, что всё в его жизни происходит точно в несуразном томительном сне. Или как в дороге, неизвестно когда и где начавшейся и неведомо куда ведущей, в которой смешались, спутались до неразборчивости поступки, чувства, прошлое, настоящее. Это какой-то сумбурный, безудержный рваный бег к очередной цели, с потерями, возвратами назад. А настоящая жизнь почему-то всегда где-то в стороне, где-то совсем рядом, но в стороне. Кажется, стоит захотеть, остановиться, оглянуться — и вот она, сделай шаг, протяни руку, прикоснись. Только ничего не выйдет: спорт ревнив и от себя не отпускает. А может, это лишь хандра, которая случается, когда сумеешь добиться чего-либо заветного?..
***
Вроде бы ничто не предвещало несчастья. Шла обычная разгрузочная тренировка, какие бывают в межсезонье, играли двусторонку. Игорь, что называется на ровном месте, получил травму, не выдержали связки коленного сустава после его кратковременного смещения, загуляли все сразу: и крестообразные, и боковые. В первый же момент почувствовал только, как точно током пронзило правую часть тела от ступни до пояса, при этом невозможно было понять, что именно болит, болело сразу всё.
Игорь разве что успел прикрикнуть на ребят, кинувшихся его поднимать, чтоб не трогали; лишь несколькими минутами спустя разрешил помочь добраться до скамейки. И только там, наконец, стал понимать, что случилось.
«Минимум полгода», — вынесли приговор доктора, означавший, что теперь придётся ставить крест на выступлениях за сборную, а может, и на клубной карьере.
Если б знать заранее, как затянется перерыв, если б дело было только в травме, если б знать, что играть самому гораздо проще, нежели наблюдать за игрой со стороны, со скамейки или трибуны, да и потом, уже наедине с собой, вновь и вновь, до бесконечности, до мельчайших подробностей, нюансов проживать каждый эпизод за себя, товарищей, тренера, перемежая всё это воспоминаниями из далёкого и недавнего прошлого. Если б только знать.
В сезоне, пожалуй, самое тягостное — это ожидание игры в день тура. Зарядка даётся в облегчённом варианте, тренировок нет совсем, даже бросковых. Вообще, для людей, привыкших к постоянному напряжённому труду, оказывается сломанным весь распорядок. Им с позволения строгого клубного руководства дарован отдых, вроде бы долгожданный, который однако не приносит радости. Да и не отдых это, а сплошная нервотрёпка, всё подчинено единой цели: нужно настроиться на предстоящее сражение, каждый раз главное и решающее. А как настроиться при резком изменении жизненного ритма, не ощущая которого, ты будто бы перестаёшь быть самим собой?.. Молодым особенно трудно, ветераны же сумели приспособиться. Или, может, кажется, что сумели?..
Вспоминаются выходные на даче у Ирины. Игорь привёз ей букет роз, потратил всё что было, — его подняли на смех: на даче своих цветов рви — не хочу.
Сначала все вместе собирали малину. Ирина как-то загадочно поглядывала на Игоря через высоко и широко разросшиеся кусты, словно хотела открыть тайну и проверяла, можно ли это сделать прямо сейчас. А у него кружилась голова, в глазах пылали яркими цветными пятнами зелёные бархатистые листья малинника, рубиновые, полупрозрачные на просвет ягоды и бело-розовый сарафан Ирины. Блестели, переливаясь, её волосы — казалось, солнечный луч запутался в них и мечется, и никак не может освободиться.
На обед была окрошка. Квасок домашний, ядрёный, хватанёшь нескромно — до слёз пробирает. Иринина мама всё потчевала Игоря, то огурчика предложит, то помидорчика, то колбаски. Отец невпопад и как-то заумно расспрашивал про учёбу в институте, будущую профессию, но разговор не задался.
Потом молодые пошли прогуляться до лесного озера и задержались там сверх меры. Когда возвращались, вдалеке на велосипеде показался Иринин отец, уже отправившийся на поиски. Они заметили его раньше, чем он их. Он не успел скрыть раздражения, увидел, что Игорь и дочь очень уж серьёзные, понурые, и сразу обо всём догадался. Остановился в отдалении, постоял немного, хмыкнул с досады и резко поворотил назад, чуть было не угодил в канаву.
Игоря не всегда узнавали на улице, и это радовало. Нормальному человеку, пусть и известному спортсмену, вполне достаточно того внимания, которое уделяется на площадке. Большего не надо, большее мешает жить и быть собой. Но почему-то это не сразу понимаешь.
Как-то зимой после институтской тренировки, несколько лет тому назад, Игоря подозвал к себе незнакомый человек. Он давно был в зале, одиноко сидел на скамейке в углу.
— Я из... Мы решили посмотреть вас в нашей команде. Послезавтра к одиннадцати нужно подъехать... Вас встретят.
В назначенные день и время Игорь сошёл с электрички на одной из пригородных станций. Ещё издали увидел старшего: крепкий, статный, он подобно волнорезу рассекал людской поток надвое. Да и трудно было не узнать его, тренера чемпионов страны и сборной; сотни интервью, крупные фото в газетах, журналах, собственные книги по тактике и технике баскетбола. И наставник узнал Игоря; то ли хорошо представлял его по рассказам помощника, то ли сам видел где-то и когда-то. А впрочем, в людской разномастной толпе баскетболист почти наверняка угадает баскетболиста.
— Ну, здравствуй, — сказал тренер и подал руку. — Как добрался?.. Мне про тебя… Тут недалеко лесочком...
И привёл прямо в зал.
Старший, Игорь Михайлович, или попросту Михалыч, — человек сильный, грузный, плечистый, сам в прошлом известный спортсмен; на вид ему пятьдесят-шестьдесят, но таким, по мнению старожилов, он выглядит давно. У него тёмная, словно от никогда не сходящего загара кожа, исчерченное нервными морщинами скуластое выразительное лицо и крепкие, каждая величиной с огромную сковороду, натруженные жилистые руки.
Ребята одновременно побаивались его и безгранично верили ему. Ещё бы, тренеру частенько удавалось переламывать совершенно безнадёжные ситуации, что называется, выжимать из них и состава сверх максимума — точно волшебство творилось в его исполнении в эти моменты. Впрочем, какое там волшебство? Жизненный опыт срабатывал и знание дела, ведь и слово крепкое, матерное порой действовало так, что, глядя на команду, оставалось только руки развести: откуда что берётся?! Лишь ветераны, да и то самые опытные, заставшие старшего игроком, иногда позволяли себе в отношении наставника состроить на лице гримасу или недоумённо пожать плечами, не согласившись с его замечанием. Вообще же, Михалыч был для ребят всем: он организовывал и тренировочный процесс, и досуг, он и успокаивал, и наказывал, хлопотал по квартирным вопросам, договаривался о зачётах и экзаменах, выбивал стипендии, брал на поруки в милиции, когда кто-либо из подопечных попадал туда после очередного срыва.
Вот он в центральном круге, в трико с эмблемой знаменитого клуба, с серебристым свистком на шее и хронометром в руке, шнурок в несколько оборотов обвивает запястье. Тренер то вдруг срывается с места и делает ускорение вслед за игроками, то отбирает у них мяч и сразу же выдаёт передачу в требуемом направлении, то кричит на кого-нибудь и заставляет выполнить упражнение заново, то прерывает тренировку, подзывает к себе игрока и что-то настойчиво объясняет ему. Снова даёт свисток на продолжение и просит выложиться, снова всё останавливает, снова чего-то требует и о чём-то сокрушается. Или просто тихо просит ребят постараться, а сам садится на скамейку — и тогда как будто бы становится беспомощным, жалким. Но это лишь на мгновение. Уже вскоре он опять всюду и сразу: и подгоняет сзади, и пристраивается то к нападающей, то к защищающейся пятёрке. И даже находясь в стороне, тренер своими движениями и жестами будто бы сам доигрывает начатые воспитанниками комбинации. Вновь и вновь сползают беспрестанно засучиваемые им рукава трико, пружинисто подскакивает кверху воротник, залипает на вспотевшем лбу упавшая седая прядь.
Игорь навсегда запомнил первую тренировку в команде мастеров.
— …Десять минут прессинга! — возглашал тренер и давал свисток. — Взять своего игрока и терпеть! Внимательней на подборе! Поставить спину и не пускать — мяч должен несколько раз удариться об пол!
«Десять минут! После „рваного бега“, бесчисленных заслонов, „двоек“, „троек“, прыжков через бревно, после тысяч бросков — десять минут!»
— Девять. В нападении крутим восьмёрку, в защите — плотнее. Прилипнуть к игрокам, держаться! Ещё, ещё!
«Время стоит, или тренер его набавляет! Не выдержу — отчислят».
— Семь. Терпеть! И улыбочку, улыбочку — любимым делом занимаетесь! Должна быть радость в глазах! Страсть и радость! Гореть должны глаза! Шесть с половиной!..
Игорь не различал партнёров порознь: все они представлялись ему единой машиной, единым механизмом.
Наконец, свисток об окончании. Тренер просит взять пульс. Нужно сосчитать удары, умножить и сообщить результат. Нет сил умножать!
— Походили, потоптались, потрясли руками! Не стоять на месте! Подышали! Ещё раз засекаем... Умножили... Результат мне, быстренько!.. Прекрасно! Ну и последние пять минут прессинга. И чтоб форма звенела от пота! И про улыбочку не забывать!
«Это всё, это невозможно…»
Потом команду ожидал зал тяжёлой атлетики, с полчаса ещё ворочали железо.
Михалыч тогда похвалил Игоря. А наутро форму выдал — сам ходил на склад, — два комплекта игровой и тренировочную, и ещё костюм с эмблемой клуба — мечтой далёкого детства.
Давным-давно маленький Игорёк лезвием «Нева» от отцовской бритвы вырезал на ватмане трафарет эмблемы, накладывал на самую новую майку, долго вымеривая по высоте и ширине, макал поролон в тушь и, затаив дыхание, боясь сдвинуть ткань, штамповал. Бумага загибалась, тушь расползалась — вместо эмблемы получилась клякса. Были слёзы, был серьёзный разговор с матерью… Год спустя отец отвёл Игоря в секцию баскетбола, пока мать прикидывала, какой из инструментов, пианино или скрипку, выбрать сыну для продолжения обучения в музыкалке, — сын занимался на подготовительном отделении и вполне освоил металлофон. Вскоре уже на совершенно законном основании Игорь получил первую в своей жизни пахнущую нитрокраской форму с чётко отпечатанным номером. Форма была на несколько размеров больше: её или приготовили для старшей команды, или взяли, как принято, с запасом, на вырост. Но это ли главное? Чуть подобрать с боков да в бретельках, остальное — заправить в трусы, такие же огромные, и всё в самый раз.
Как ждал Игорь свою первую игру, чтобы выйти на площадку в новой форме, — и вдруг простудился. Обмануть родителей не удалось, пришлось ложиться в постель, ставить градусник, пить аспирин и чай с малиной. Ни о какой игре не могло быть и речи.
Что же касается формы, Игорь берёг её, запрещая матери стирать с порошком, чтобы не вылинял номер. Разве что с обувью постоянно проблемы были: кеды не держались больше месяца, гнили нитки на швах, рвались шнурки, отваливались или протирались насквозь подошвы.
— Василий, гони, гони команду, разгоняй! Тимоху заведи по полной, чтоб без фантазий в башке, чтоб ничего постороннего. Давай!
«Сколько сыграно, прожито, а всё равно как впервые… Ребята молодцы, чувствуют, как надо готовиться, и без понуканий. Профессионалы, хотя некоторые совсем дети. Впрочем, в спорте они взрослеют раньше сверстников. С шести-семи уже в разъездах, на турнирах, сборах. Времени в обрез, для обыкновенных мальчишеских игр его нет совсем, если не считать игры главной, ради которой всё остальное и делается, — для баскетбола… А если что, ветераны помогут».
Игорь всегда испытывал затруднения, как обращаться к играющим ветеранам, на «вы» или на «ты», особенно когда только появился в команде — в тот период иные из партнёров были старше едва ли не вдвое, да и звания у всех — закачаешься.
На площадке язык не повернётся сказать «вы», зато вне её «ты» — как-то не вполне уместно. Вот и приходилось использовать оба варианта.
Самого же Игоря в команде называли Угореликом или Угорелым, переделав эдаким образом фамилию, — на что он нисколько не обижался.
— Михалыч, чего скажешь? Прям день авиации: четверых в воздух поднял — и какой мяч уложил, прям на загляденье!
— Чего тут говорить?! Мастерство не пропьёшь. В общем, надо возвращать Василия. Сколько пропустил, а за счёт головы всё равно сильнее других. И прибавит ещё — знаю его упрямство, — и ребята уверенней заиграют.
— Сам-то он согласится? Нехорошо мы с ним. Да и руководство…
— С руководством разберусь. Когда такие ставки, отказа не будет. А Вася согласится. Куда он на хрен денется?! Что мы все без баскетбола — да ничего!
Ветеран Василий Гаврилович Задоров, или Задорный, несмотря на свою фамилию всегда выглядел каким-то неуклюжим, неряшливым, неухоженным. Даже тщательно подобранный для него фирменный трикотажный костюм уже вскоре, не успев износиться, обвисал на локтях и коленках и сильно вытягивался у молнии. Стоило Задорному день не побриться, как его принимали или за серьёзно больного человека, или за алкоголика. При этом в команде ходили легенды о его длиннющих руках, шутили, что они свисают до земли, как у снежного человека, что достаточно Задорному встать в центральном круге — и соперник не проскочит мимо, не потеряв мяча, даже вдоль самой кромки. А так шутка ли: четырнадцать метров — ширина площадки. Действительно, в статистике, в графе его перехватов, как правило, значились цифры, сопоставимые с общекомандными: сколько перехватов сделает за игру вся команда, столько же примерно и он один.
На ветеранах держались традиции.
— Колян, ну, чего ты нам мозги мусолишь? — подначивал товарища Задорный. — Какая такая дочка у тебя? С какого лешего, откуда ей взяться? Ты ведь не женат! И времени у тебя на это не было. Правда ведь, Георгич?.. Вот и я говорю. Когда-когда, говоришь, свадьба была? В позапрошлом? Да врёшь, да ладно!.. А мы до сих пор ничего знать не знаем, ведать не ведаем. И про квартиру — ничего… Какая такая квартира? Ты прям как маленький! Доиграем круг — и давай проставляйся! Чтобы всё постепенно, чин по чину: сначала квартирку примем во внимание, потом женитьбу, а потом уж, само собой, рождение дочки. А то как можно поверить, что ты отец, когда и с жильём у тебя глухо, и жены в помине нет?! Правильно ведь я говорю, Георгич?..
— Так, в старте — Василий, Игорь, Коля, Андрей и…
Андрей — парень способный, думающий — что очень важно в игровых видах, — с отличной координацией и послушной мягкой рукой. Из таких мастеров и лепят. Вот только наглости ему не хватает, настоящей, спортивной. В спорте скромнягой не проживёшь, здесь каждый эпизод на борьбе держится.
— …Внимательней. После забитого — по всей! И задушить в чужой зоне!
«Не рановато ли я с прессингом? Да нет, в самый раз. Предсезонка позволяет. Нужно навязать сопернику свою волю, заставить ошибаться…»
— Игорь, контроль мяча, не глядя на мяч. Голова поднята!
Как оторвать голову от подушки? Ещё бы спать и спать, но тренер неумолим, хоть и женщина, да поблажки не дождёшься. И помощник её, рыжий Вовка из старшей команды, уже прикрикивает, торопит, с постели стянул, из-под одеяла — в холод. Стёкла и те в испарине! «На зарядку, на зарядку!» Ноги в кеды — и марш из домика. Тренер впереди темп задаёт, Вовка сзади подгоняет, чтобы не растягивались. Срезать сам не захочешь: чуть в сторону от тропы всё сырое, оступился и чувствуешь, как вода захлюпала; потом будут мозоли и потёртости. Лес ещё тёмный, туманом как тяжестью к земле придавленный. Лишь где-то далеко и высоко впереди проглядывает меж ветками мутное качающееся небо. И сознание ещё дремлет — тупо выполняю, что требуют. Кажется, начинаю согреваться. Всё равно мотает из стороны в сторону, опереться бы на что-нибудь. Однако и коренья нипочём, и проскальзывания. Сейчас за поворотом будет длинный тягун, придётся потерпеть. Всего-то, казалось бы, полторашка, всего-то пять кругов накрутить… Спуск — подъём, спуск — подъём. В группе бежать проще. Ребята держатся, и я держусь, чем я хуже?! Тренеру-то зачем? Всё равно нам деваться некуда, стояла бы с секундомером на пригорке... Ну вот, кажется намотали своё, теперь на стадион — отжимания, пресс. Мышцы ноют со вчерашнего, дали бы хоть день перерыва. Но с нагрузкой боль должна утихнуть. Ещё чуть продержаться — и должна утихнуть. Надо дотерпеть. Вовка сачков высматривает, чтобы потом, после вечерней двухсторонки штраф выписать: бег в горку с утяжелением или рывки на берег из воды. Это лишь зарядка — день только начинается, самый обыкновенный рабочий день.
— Ну что за пас такой?!
«Парашют развесил».
— Сопли это, а не пасы! Ну как так можно?! Ну, кто ж через зону-то?! Не знаешь, что делать, отдай Горелику! А ты, Игорь, отрыв организуй. И веди игру, веди!
«Твердил им, твердил про аритмию — всё без толку. Хоть самому выходи».
— Дорожить мячом, дорожить!
Задорный учил Игоря пас отдавать.
В баскетболе есть неписаное правило: в непринятой передаче всегда виноват пасующий. Хорошо ли дал, плохо ли, но раз партнёр не принял — значит, плохо. Вроде и глупость, на первый взгляд, но правило это серьёзный жизненный смысл имеет. К примеру, не понимает тебя другой человек — мучайся, разбирайся, в чём причина, ищи ответа, не в нём, в себе ищи. И действительно, когда Игорь получал передачу от Задорного, мяч всегда удобно ложился ему в руку. Другие бросят кое-как — и скользнёт мяч по пальцам, точно льдышка, или, того хуже, обожжёт ладонь вдруг вздыбившаяся пупырчатая поверхность, мяч же при этом отскочит неожиданным образом и задарма достанется противнику. А ветеран и вращение придавал хитрое, что у Игоря как бы само собой потом получалось наилучшим образом атаку завершить. Смотришь, и соперники отрезаны, все позади, не у дел, и обыгрывать некого, а ты, знай себе, укладываешь мяч в корзину. Грех такой пас испортить.
— Пас — в одну, заслон — в другую! Сколько можно повторять?! Сожрать его, Колян, сожрать! Кому говорю?!
«Доигрались, мать твою! Очко в очко вместо плюс тридцати. Сами себе проблемы привозим!»
— Пас — в одну, заслон — в другую! Чего проще?..
«Ну, бестолочь!»
— Михалыч, они же, молодые, все бестолковые! — проворчал кто-то из ветеранов. — И здесь, и в жизни. Вот говорю им «закрывайте дверь в раздевалку», всё равно не закрывают.
«Всё, надо менять!»
Запасные — это не только молодёжь, это ещё и опытные игроки, мастера, которые, к примеру, из-за травм долго не выходили на площадку.
С какой же ревностью иногда запасные смотрят на основных! Все промахи подметят и, чуть что, взгляд на тренера: чего ж, мол, он, неужели не видит, на что надеется, почему другим доверяет, а им — нет? А когда команда проигрывает, когда не ладится ничего, когда это повторяется изо дня в день, тут, если ты запасной, вообще не знаешь, куда себя деть. Самому на площадке проще: чего бы ни задумал, ни сделал — это твоё и ничьё больше. А на скамейке? Хорошо, когда запасные молчат. Да всё равно от эмоций никуда не денешься. Тяжело, находясь рядом, сознавать, что ничем не можешь помочь. Ветераны спокойнее, хотя и они порой не выдерживают, непонятно им, как можно на столь высоком уровне допускать детсадовские ошибки. Если трудная игра удачно заканчивается, радуются все, но опять-таки по-разному. Те, что выходили на площадку, счастливы, а которые отсидели на скамейке, хотя и улыбаются, всё же обижены. И много им понадобится времени, чтоб успокоиться. И ещё, если ты запасной, и тренер вдруг выпускает тебя на замену, то, как бы ты ни разминался, как бы ни готовился, вряд ли сумеешь сразу войти в игру; бывают исключения, но редко. Ты наверняка всё знаешь, всё умеешь, возможно, лучше тех, кого ставят в старте, но ты часто не готов психологически, не сразу почувствуешь игровой ритм, а значит, будешь ошибаться, делать потери, и на тебя точно так же будет роптать скамейка, на которой ты опять вскоре окажешься.
— Фолить — так фолить! Что ты как красна девица?! Отруби ему руки! Почему он у тебя с фолами забивает? Я тебя спрашиваю?!
«Учи, не учи — без толку!»
— Отруби ему руки!
«Зачем я?.. Соперники — тоже люди, баскетбол для них — такая же работа, и лиши их её… Лучше не думать об этом».
— Растяпа!.. Он тебя и обокрал, и потом чуть ли не из-за пазухи забросил… Ну как так можно?
«Этого бы паренька к нам — проблем бы не знали. Упрямый, против всех законов играет, вот мы с ним и не справляемся».
«Куда он всё время пялится?»
— Андрей, соберись!.. Или посажу!
«А, вон куда. Эти глаза и я уже начинаю находить среди десятков тысяч других глаз, где бы она ни сидела. В таких девчат влюбляешься сразу и навсегда. Андрюха — салага, многого не понимает, не ценит… Но это ведь мешает игре, команде, а значит, всё это надо безжалостно пресекать. Сколько раз сам отговаривал близких, сколько раз просил их не приходить? Их присутствие всегда чувствуется — даже если не знаешь, где они сидят. И это действительно сказывается на игре. Ты совершаешь массу необъяснимых ошибок, потерь или — не можешь сотворить чуда, обыкновенного, спортивного, которого ждут от тебя зрители, команда, тренер. Бывают, правда, и те, кто ловит кураж в присутствии любимых и родственников. Но ведь и кураж не всякий хорош, не всякий пойдёт на пользу команде. Команда должна побеждать, а у тебя лично — пусть хоть ноль в статистике».
— Судило! Научись свистеть!
«Совсем ребят задёргал, не даёт играть. Откуда они такие берутся? Хорошего судьи не видно на площадке, его не видно, а всё идёт своим чередом, всё под контролем. Вмешательства — в крайнем случае. Здесь же уровень судьи ниже уровня игроков, причём намного».
— Свистун!
«Надо успокоиться. Не хватало, чтобы команду наказали. Поддавливать-то стоит, но аккуратнее… Хорошо, хоть не подсуживает, а то несколько свистков — и сломана игра».
— Не держат — бей! Твоя же точка! Смелее!
«Эх, фонарь! Ну что за бросок? Чего мандражирует?»
— В защиту вернуться, отработать!..
«Откуда она здесь?.. Как дома! Хоть накинула бы чего. Совсем никакого стыда. И, кажется, я с ней… Да, это та самая вчерашняя блондинка из ресторана. Точно, Василий тогда спросил, которая мне больше нравится, я ответил — и потом всё так сразу. И ни тебе секретов, ни тайн, ни томлений, ни терзаний. Захотел — получил. Просто, естественно, даже чересчур естественно, сплошное естество. Как животные, самцы, самки… Она, конечно, симпатичная. Однако, стыдно, не могу смотреть ей в глаза. В глаза не могу, а украдкой всё подглядываю, как нагнулась, повернулась, прошлась, качнула бёдрами. Вот попал-то! Ирина не узнает ничего. Да если и узнает, чего теперь? А, будь что будет!»
— Гарик, враскачку его, враскачку! И задёргай, замучай рывками. Чтоб думать он у тебя не успевал. Рано или поздно отвалится.
«Им придётся страховать и бросать своих игроков. Кто-нибудь из наших обязательно останется один... Только бы сил хватило. Должно хватить».
— Так, так! И перегрузку мне создайте!
Было дотемна пасмурно. Изредка начинал накрапывать дождь, но всякий раз быстро прекращался, чтобы через некоторое время пойти снова. Дорога на кладбище была усеяна слежавшимися заплесневелыми чёрными и серыми прошлогодними листьями и рыжими, точно припорошенными ржавчиной, сосновыми иголками. Почему-то казалось, что эта дорога никогда никуда не приведёт. Впереди надрывно тарахтел трактор, который невозможно было обогнать из-за узости колеи.
Хоронили ребят, попавших в автомобильную аварию. Когда всё было закончено, посыпал снег.
«Ну, вот, если считать с ветеранами, то полкоманды здесь, полкоманды там, можно организовывать турнир».
После похорон команда быстро и как-то незаметно угомонилась: не хлопали двери, не шуршали шаги в чутком вечернем коридоре.
Перед тем как лечь, Игорь долго стоял у окна, смотрел на качающиеся под порывистым ветром чёрные, насквозь промокшие ветки дерева. Те, подобно щупальцам гигантского осьминога, всё наползали и наползали на желтизну фонаря, ближе, ближе, пока не обжигались и не одёргивались. Затем всё повторялось снова.
Поскрипывала форточка, парусила дымкой тюлевая занавеска, а на потолке паутиной сплетались тени того же дерева.
Так бывает и перед ответственными играми: надо отдохнуть, а сна нет. Если и получится уснуть, всё равно беспокойство не отпускает. Ты испытываешь какое-то юношеское волнение, болезненный озноб, беспричинную боязнь неведомо чего. И предстоящая игра кажется тебе самой главной в жизни, от неё зависит всё, никаких дум на посторонние темы, ничего иного не существует, лишь игра. Но в детстве ты ещё не умеешь делить игры на важные и неважные, и каждая для тебя — решающая. Лишь бы дождаться, дотерпеть, а что будет потом... Это перед игрой нет сна, а потом, наоборот, всё будет как во сне: наконец-то, соединятся вместе томительное ожидание, волнение, азарт, желание победить и эпизоды, бесконечная череда эпизодов, из которых соткана жизнь.
Игорь неоднократно вставал, чтобы подтянуть простыню, взбить подушку — всё было ни к чему: не засыпалось. Пробовал считать, расслабиться и ни о чём не думать, да не выдерживал долго. В уме возникала какая-нибудь мысль, выдёргивала за собой другую, та — следующую, и так без конца и краю. То вдруг становилось душно и неудобно, Игорь ворочался, сбрасывал одеяло, но уже вскоре искал его — донимал холод.
Странно: вроде бы и с бытом всё налажено, и мечты юности сбылись. Ты занимаешься любимым делом и получаешь за это деньги, но всё равно что-то постоянно мучает тебя, гнетёт, выводит из равновесия. И, кажется, никогда ты не сможешь объяснить это какой-то конкретной причиной, не сможешь разложить по полочкам свои раздумья, сомнения, переживания.
— Проснитесь! И поймите ж, наконец! Чтобы победить, мало играть хорошо, грамотно. Каждый эпизод требует полной самоотдачи, через отрешение, через не могу! Сверхусилие, сверхстарание, сверхусердие, надо всякий раз преодолевать себя — и только тогда придёт победа.
«Ну, кем я его заменю?.. Не сейчас, нет. Сейчас — кем угодно. А во второй половине, когда наш традиционный провал начнётся… Он единственный, кто сумеет удержать ребят, я со скамейки не сумею!
Награды, отставки — какая ерунда! Сколько их было?!
Тогда расформировали состав… за второе место, а ведь многим не было и тридцати — им бы играть и играть».
Ребята с пониманием относились к тому, что команду оберегали от лишних контактов с окружающим миром. С одной только медицинской точки зрения, подобное уединение на загородной базе приносило весьма заметные результаты: не будь этого карантина, игроки, замученные ежедневными двух- или даже трёхразовыми тренировками, легко подхватывали бы всевозможные простудные и вирусные заболевания — и, распусти их по домам, в одночасье слегли бы полным составом. Кому тогда выходить на площадку, кому решать поставленные на сезон задачи?
— Разобрать своих! Плотнее, плотнее!.. Я кому говорю? Запереть их в зоне! Почему они свободно выводят мяч? Где подстраховка? Внимательнее надо быть. Сёма, ты понял меня? Не вижу. Ты кого держишь?.. Вот и прилипни к нему… как банный лист! И разговаривайте друг с другом при смене, подсказывайте! Язык что ли отсох? Не стесняйтесь!
«Это теперь стало обычным отдавать игры, стоит только попросить, потребовать, что-то пообещать, дать денег. Раньше об этом и заикнуться не смели, и подумать.
Как-то давным-давно играли на выезде… Ещё в перерыве посыпались угрозы — сами соперники намекали, а зрители так вообще в открытую, — что не выпустят, если не отдадим встречу. Дрогнули поначалу, было с чего: на балконе появились ребята с цепями, железками. Но потом взяли себя в руки — и разорвали противника, тридцатник им привезли. На улицу выходили как раз меж этих, с цепями и железками. Жутко было — но так и не решились нас тронуть, не знаю почему. Может, зауважали, а может, побоялись ответного выезда».
— Смотрите-ка, Игорёк, ты уже нашей водой стал мыться — горячей, ветеранской. Как времечко-то летит!
«Да, времечко летит. Где они теперь, старенькие уличные площадки, гаревые дорожки, где они, зарядки и кроссы в дождь и снег? Не те уж сегодня условия, совсем не те, а ведь всё равно жаль чего-то, чего уже не вернуть никак».
«Опять этот провал. Хоть часы по нему сверяй: четвёртая минута второго тайма».
— Минуту в паузе… Минутный перерыв!
«Чего предпринять?.. Опять на пустом месте. Из-под сачка не забиваем, на ведении — потери… Отрывались-отрывались — всё насмарку!»
Пятеро крепких парней, обычно полных сил и уверенности, стояли, окружив тренера, уступавшего любому из них в стати, нервно переминались с ноги на ногу и дырявили взглядами пол — точно нашкодившая малышня в ожидании взбучки. Чеканно жёсткие слова наставника и были для них такой взбучкой, и не только они.
— …Вы меня поняли?.. Не слышу! — Но вдруг тренер сам делался жалким и застенчивым. — Ребятки, умоляю, сыграйте, как умеете! И всё, больше ничего. Ну, пожалуйста!
Трудно сказать, какая часть минутного перерыва имела решающее значение, но перелом в игре наступал неизменно.
Старший сразу принял Игоря за своего, лишь виду до поры не показывал. Кого-то очень напоминал ему этот талантливый и трудолюбивый паренёк.
— Второй Михалыч растёт, — шепнул однажды на ухо помощник. — Манера, финты, приёмы и даже характер.
Услышав это, Михалыч как будто бы рассвирепел, подозвал к себе Игоря, назвал бестолочью и отправил переделывать упражнение, после чего расплылся в добродушной улыбке.
С тех пор, думая о подопечном, тренер невольно вспоминал себя в молодости. И сам, случалось, начинал путаться в том, кого в конкретный момент касались его думы и воспоминания.
Чего бы ни случалось в жизни, Игорь верил: есть лекарство — спорт, баскетбол, — которое всегда выручит, поможет преодолеть невзгоды, сбросить с плеч излишнее напряжение. Но однажды и баскетбол оказался бесполезным — когда ушла Ирина.
«Я тебя люблю, — как-то призналась она, а потом, подумав, добавила, — но это ещё ничего не значит». Долго гонял он в мыслях эту фразу.
Вернувшись с очередного турнира, Игорь позвонил Ирине и от родителей неожиданно узнал, что она замужем. Ухмыльнулась мать, передала трубку отцу, а тот словно отомстил за прошлое. А всего-навсего у них была ссора, самая обыкновенная, каких много, какие случались и прежде. Но чтоб так сразу всё решить, и притом в одиночку — у Игоря это в голове не укладывалось.
С неделю он не выходил из дому — валялся на диване, уставившись в потолок, — ещё с неделю-другую куролесил по друзьям и кабакам, выезжал за город, в лес, истоптал все окрестные парки и скверы. В конце концов, собрался на тренировку. Но и в зале не наступило успокоение.
Никогда ещё он не чувствовал себя настолько беспомощным, никогда его движения не были так заторможены и ограничены, никогда его тело, руки, ноги не действовали вразнобой друг с другом, а мысли угасали, не успев толком сформироваться. Лишь одно было понятно наверняка: если сразу не покинуть площадку, дело обернётся серьёзной травмой.
«А может, всё, пора вешать форму на гвоздь?..»
Каждому спортсмену когда-то суждено завершить выступления. И кто знает, когда именно нужно уйти: сразу после победы, в полном расцвете, или когда почувствуешь, что нет сил для новой победы? Для чего они тогда вообще есть и есть ли? В конце концов, нужно уметь в жизни, в другой жизни, что за пределами площадки, делать хоть что-то, хоть как-нибудь. Умеешь ли? А если для тебя никогда ничего не существовало за этими пределами, если ничего не будет существовать и впредь, готов ли ты начать всё с самого начала? Ради того, от чего отказался когда-то. Забыть славу, популярность, внимание к себе. Ведь это не главное. Главное — суметь однажды перестать быть таким, каким тебя воспитали, каким ты сам себя подготовил трудом и терпением, суметь однажды перестать быть собой. Найти новую цель, если только сможешь найти, поверить в неё и как в детстве на тренировках день за днём терпеть, терпеть. Как нелепо всё это, однако ничего не поделаешь: жизнь в спорте обычно короче жизни вообще. И рано или поздно прощай команда мастеров, нужно покупать водку и прописываться в ветераны. Впрочем, можно попробовать повторить спортивную жизнь — если доведётся стать тренером.
Пока же всё ещё впереди, всё только предстоит. Расклады, прогнозы — не в счёт. Нужно собраться, взять себя в руки, настроиться на борьбу. И главное, нужно выходить на площадку и побеждать, в той самой игре, что была несколько раз сыграна в мыслях и во сне. Во что бы то ни стало побеждать. Нужно брать реванш — за прошлые поражения, за всю жизнь, за тех, кого уже нет в составе. Ребята готовы, они этим дышат, грезят, остальное не имеет значения. Нужно побеждать — и зазвучит гимн, для всех нас. Вот тогда-то мы и подведём итоги. Мяч — круглый, поле — ровное. А в остальном…
***
…Игорь подумал, что всё в его жизни происходит точно в беспокойном томительном сне. Или как в дороге, неизвестно когда и где начавшейся и неведомо куда ведущей, в которой смешались, спутались до неразборчивости поступки, чувства, прошлое, настоящее. Это какой-то сумбурный, безудержный рваный бег к очередной цели, с потерями, возвратами назад. А настоящая жизнь почему-то всегда где-то в стороне. Где-то совсем рядом, но в стороне. Кажется, стоит захотеть, остановиться, оглянуться — и вот она, сделай шаг, протяни руку, прикоснись. Только ничего не выйдет: спорт ревнив и от себя не отпускает. А может, это лишь хандра, которая случается, когда сумеешь добиться чего-либо заветного?
«Столбики, кресты, дощечки, вылинявшие ленты на деревьях, цветы, цветы, живые и пластмассовые. Как неестественно они шелестят на ветру. Этот сухой ломкий шелест, заставляющий вздрагивать вновь и вновь. Эта жизнь, оставшаяся на обочине. А где-то поблизости — и непрожитая моя, на которую не хватало времени».
— Попадаются и могилы, — вдруг жёстко произнёс старший. — Иногда от человека собрать нечего, не остаётся ничего. Как от наших ребят. Ох, уж мне это стремление наверстать упущенное за годы… в паузах меж играми!.. Хоронят что-то на кладбищах, по сути же…
— Вы сами, когда играли, почему?.. — Игорь не закончил фразу.
Тренер долго молчал, потом медленно, словно припоминая что-то, проговорил:
— Если б не война, ранение… а оттуда вернулся только тренером. Тебе повезло больше. В спорте, Игорь, нет случайных людей, особенно на таком уровне. — Он задумался, смахнул седую прядь со лба. — По крайней мере, до последнего времени не было. Это… это то, ради чего жертвуешь всем остальным. Этот пьедестал, красный флаг с серпом и молотом и четыре буквы СССР на свитере — и нет ничего важнее. И сколько б мы ни жаловались, лиши нас этого — и мы одиноки, беспомощны. Так-то вот.
Только что была одержана победа. Была огромная хрустальная чаша, до краёв наполненная шампанским, — в неё сложили чемпионские медали. Был пенный салют, был дождь из шампанского, которое игроки, прежде чем вылить в чашу, намеренно взбалтывали, зажимая пальцами бутылочные горлышки, и разбрызгивали во все стороны. Этот хмельной аромат победы, смешанный с густым жаром из душевой, плотно наполнял помещение раздевалки. Пол, стены, скамейки, разбросанная и развешенная как попало тяжёлая, чёрная от пота форма, — всё сладко липло. Толкались, протискиваясь от игрока к игроку, репортёры, с головы до ног увешанные аппаратурой и проводами, суетились, рассыпаясь в комплиментах, обычно чванливые и надменные чиновники, гоношился прочий знакомый, малознакомый и совсем незнакомый люд. Все жали друг другу руки, обнимались, целовались. Гремела музыка, её рвали на части доносящиеся отовсюду возгласы тостов и заверений. Моталась, точно маятник, дверь, пока не отвалилась совсем; её сняли с петель и вынесли в коридор. А поздравляющих становилось только больше. Непонятно, каким образом раздевалка вмещала столь внушительное нашествие народа.
И на улице бесновалась толпа — без конца и края. По ней в разных направлениях прокатывали волны шума, то и дело срывающегося на рёв. Дрожали до дребезга стёкла автобуса, застывшего на месте и почему-то кажущегося среди стихии людских масс бесприютной детской колыбелью. Однако уже чувствовалось, что настало время, когда можно перестать быть суеверным, расстаться с талисманами, не носить день за днём одну и ту же изрядно надоевшую одежду, не занимать раз за разом одни и те же номера в гостиницах, поездах, самолётах и, наконец-то, побриться.
Болельщиков едва сдерживала конная милиция. Рослые холёные животные угрожающе переминались, цокая подковами по булыжной мостовой, нервно мотали гривами, скалили белые зубы, зловеще фыркали, шумно выдыхали ноздрями пар в прохладный вечерний воздух.
Но вдруг смолкли крики, потухли прожектора, толпа отступила, оставшись возле дворца спорта и на прилегающих к нему улочках. Монотонно пофыркивал дизель, уныло покачивались за окнами редкие огни подслеповатых фонарей, продрогших от промозглой весенней сырости.
И, кажется, иссякли все силы, наступило душевное опустошение. Что дальше?..
Андрей ШАШКОВ,
2008 — 2010