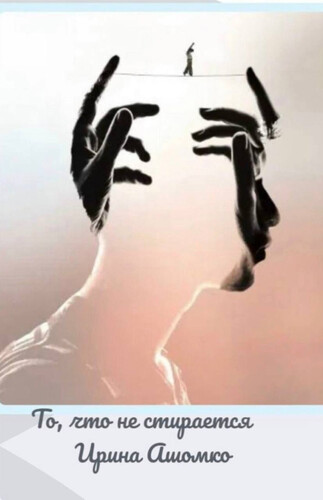Памяти тех, кого земля взяла, а глина помнит
Пролог
В то утро дверь старого дома подалась с протяжным, жалобным стоном, будто не хотела впускать непрошеных гостей. Солнечный свет упал на истертые доски, выхватив из полумрака дорожку пыли, в которой, словно конфетти, блестели мелкие осколки стекла. В воздухе все еще пахло не жильем, а забвением. Сыростью, старой бумагой и чем-то неуловимо сладким, тленным. Я сделала шаг, и половица отозвалась таким знакомым, таким домашним скрипом, что на мгновение показалось: сейчас из глубины коридора выйдет кто-то и спросит: «Ну, где тебя носит? Самовар стынет».
Но никто не вышел.
Только ветер шевельнул тюлевую занавеску, и мне почудилось, что за ней, в углу, стоит высокая тень. Два метра ростом. Широкие плечи. И руки, которые могли либо вылепить горшок, либо перевернуть барскую тройку, либо вытащить из реки такую рыбину, что лошади впору креститься.
Я села на подоконник и закрыла глаза. И потекло время вспять, как тесто в квашне, как глина на гончарном круге...
1. Глина и гонор
Глина бывает разная. Есть красная, тяжелая, для кирпича. Из нее кладут стены, чтобы отгородиться от соседа. Есть белая, тонкая, для посуды. Из нее пьют чай с блюдечка, чтобы сосед видел: достаток есть. А есть глина серая, вязкая, придорожная. Та, в которой вязнут колеса, которую проклинают мужики, слезая с саней и матеря небеса, пославшие эту распутицу.
Вот из такой глины, из такой дороги, из такого снега по колено и был сделан Лука.
Два метра ростом. Необычной могучей силы. Ладони – как сковороды, пальцы – как корневища, спина – как стена овина. Стоит на ветру, а ветер огибает его, как река огибает валун. Идет по снегу – снег под ним не скрипит, а стонет, потому что понимает: этот продавит, ему лучше не сопротивляйся.
Сила в нем была какая-то древняя, ещё домосковская, вятско-нижегородская. От тех мужиков, которые если брались за соху, то пахали до горизонта, если брались за топор – рубили так, что щепки летели в другой уезд, а если брались за глину – лепили горшки, как боги лепят людей: нарочно чуть кривовато, чтобы не гордились.
О горшках надо сказать особо.
Горшки у Горшковых были знатные. Рынок в уездном городе знал: Горшковы приехали, значит, будет звон. Они звенели, когда их пробовали ногтем. Гудели, если дунуть в пустую утробу. Хранили тепло так, будто само солнце замуровано в глиняные бока. Старик-дед, отец отца Луки, учил:
– Глина – она как баба. Пока мнешь – терпит. Как дашь форму – запомнит. Обожжешь – уже не переделаешь. Так и живи, чтоб потом не переделывали.
Дед этот был шустрый, юркий, маленький – в прыжке, как говорили, росту было, но в деле – огонь. Торговал, договаривался, кланялся кому надо и выпрямлялся, когда никто не видит. А Лука молчал. Он считал, что слова – это для тех, у кого силы мало. У кого сила есть – тот делает.
И вот зима. Мороз под сорок. Снег – пухляк, рыхлый, как пух из старой перины. Сани тяжелые, доверху груженные горшками: красными, коричневыми, желтыми, обливными и простыми. Лошадь – худая, но жилистая, нижегородская, привычная ко всему. Тянула постромки и косила глазом: мол, хозяин, тут главное – не дёргай.
А тут – тройка.
Летела навстречу, как огонь. Колокольцы заливаются, дуга расписная, полость медвежья, а в санях – барин. В енотовой шубе, в бобровой шапке, сытый, красномордый, с усами, как у таракана. И с гонором, раздутым до размеров овина.
Дед Луки – шустрый старикан, битый жизнью, знающий, что горшки бить – не барина учить, – кубарем с саней, и в ноги. Прямо в снег, прямо перед мордами лошадей.
– Барин, родненький, свет-ваше-благородие, уступи! Снег рыхлый, сани тяжелые, перевернёмся – товар побьем. Век за тебя Бога молить будем!
А барин – ноль эмоций. Сидит, как из чугуна вылитый, только пар из ноздрей валит, как из самовара.
– Не бывать тому, – говорит. – Чтобы я, столбовой дворянин, каких-то горшечников пропускал. Пошёл прочь, смерд! Дорогу дай!
Дед в слезы, в причитания, в пояс кланяется, шапку в снег уронил, ползает на коленях.
– Ба-а-арин, пожалей! Старика пожалей, товар пожалей! Всю зиму работали, последнее везём!
А барин – ни в какую. Принцип.
Лука все это слушал. Сидел на санях, как каменный, и слушал. Потом спрыгнул.
Не спеша. Без суеты. Подошёл к тройке. Взялся за оглоблю. Лошади шарахнулись – почуяли силу. Барин рот открыл, чтобы крикнуть: «Куда прёшь, холоп! Да я тебя!..» – и не докричал.
Потому что сани с барином, с лошадьми, с енотовой шубой, с гонором и с принципами плавно, с достоинством, но неумолимо наклонились и опрокинулись в сугроб. Мягко так, культурно. Лошади – в одну сторону, барин – в другую, колокольцы – звяк! – и тишина.
Лука отряхнул рукавицы, подошел к деду, поднял его с колен, посадил в сани, тряхнул вожжами и сказал лошади одно слово:
– Пошла.
Лошадь пошла. Всё поняла. Она вообще всё понимала, умнее многих людей.
А барин вылез из сугроба красный, как рак, и закричал вслед:
– Я найду тебя, сукин сын! Я тебя в Сибирь! Я тебя на каторгу! Я тебя!..
Но Лука даже не обернулся. Только дед перекрестился и шепнул:
– Ну, Лука, теперь держись. Нагрешили мы с тобой нынче...
2. Сом
А до того случая с барином, ещё в молодости, была у Луки другая история. Летняя.
Речка у них там, в Нижегородчине, не широкая, но глубокая. Омута – чёрные, холодные, дна не достать. И водилась в тех омутах рыба – не чета нынешней. Сомы. Такие сомы, что иной раз ночью, в тишину, слышно было, как они всплеснут хвостом – аж по всей реке эхо идёт. И верили старики: есть там один: дед всех сомов. Старый, как эти берега, мхом поросший, усатый, в человеческий рост длиной. Кто его поймает – тому вся жизнь по-другому пойдёт. Только никто не ловил. Боялись.
Лука не боялся.
Он вообще ничего не боялся. Страх – он для тех, у кого силы мало, говорил дед. А у Луки силы было на троих.
И вот пошел он как-то на речку. С вечера. Закинул снасть – не удочку, а крючину самодельную. На толстом канате, с наживкой величиной с поросёнка. И сидит. Ночь летняя, теплая, комары зудят, звёзды в воде купаются. Лука сидит, как каменный, и ждёт.
Под утро и клюнуло.
Да так клюнуло, что Лука едва на ногах устоял. Канат натянулся, как струна, вода в омуте забурлила, заходила ходуном, и показалось Луке, что сам водяной за его снасть ухватился и тянет вглубь, в чёрную воду, на самое дно.
Уперся Лука ногами в берег. Руки сцепил. Тянет.
А сом тянет обратно.
И пошла у них борьба – не на жизнь, а на память потомкам.
Час тянулись. Два. Уже солнце взошло, уже бабы на речку пришли белье полоскать, увидели – ахнули, разбежались. Мужики собрались на берегу, стоят, крестятся, советы дают, а помочь никто не лезет – страшно.
А Лука тянет.
У него руки в кровь стёрты канатом, спина гудит, ноги в берег вросли по колено, а он тянет. Потому что не может он отпустить. Потому что там, в воде, такая сила бьётся, равная ему, и кто кого переборет – тот и будет в этом мире главный.
К полудню сом сдал.
Выдохся. Всплыл брюхом кверху, усталый, огромный, серый, как старая туча. Лука подтянул его к берегу, а там уж мужики подоспели: верёвки кинули, баграми поддели. Вытащили сома на берег – и ахнули.
Два метра длиной, не меньше. Усы – как вожжи. Пасть – как ведро. Весу в нем было – лошади не поднять.
А Лука стоял над ним, тяжело дышал, смотрел на эту рыбину и вдруг почувствовал что-то странное. Будто не рыбу он поймал, а самого себя. Будто там, в воде, билась его собственная сила. И теперь она вышла на берег и лежит, побеждённая, и смотрит на него мутным сомовьим глазом.
– Ну, – сказал Лука. – Теперь домой везти надо.
Погрузили сома на подводу. Еле закатили – человек шесть надрывались, а Лука один с хвоста поднимал. Положили поперек телеги: голова с одной стороны свесилась, хвост с другой. Лошадь запрягли – старенькую, смирную, Зорьку.
Зорька оглянулась, увидела, что везёт, дёрнула. Постромки натянулись. Колёса скрипнули. И ни с места.
– Ну-ка, – сказал Лука. – Ещё раз.
Зорька дернула ещё раз. Уперлась всеми четырьмя копытами, жилы на шее вздулись, глаза кровью налились. А воз стоит. Потому что хвост сомовий на земле лежит, тормозит, как якорь. И вес такой, что лошадиный век его не перетянет.
Мужики загалдели: мол, бросай сома, Лука, бери мясо по частям, не мучай животину.
А Лука посмотрел на Зорьку, на её дрожащие ноги, на выпученные глаза, и сказал:
– Иди гуляй.
Выпряг лошадь. Привязал её сзади к подводе, чтоб не убежала, чтоб видела. Встал спереди, взялся за оглобли, упёрся ногами в землю, натужился – и пошёл.
Телега скрипнула, дрогнула, покатилась.
Лука идёт – телега едет. Лука шаг делает, телега полметра проезжает. Хвост сомовий по земле волочится, пыль столбом, трава примятая. Спина Луки мокрая, рубаха прилипла, жилы на лбу вздулись, глаза в землю уперлись, а он идет.
Мужики за ним бегут, шапки вверх кидают, ура кричат. Бабы из домов выскакивают, крестятся, плачут. Дети визжат, за подводой бегут, на сома пальцами показывают. А Лука идёт.
Так и довез до самого дома.
Во двор зашёл, телегу поставил, оглобли опустил. Повернулся к Зорьке, отвязал её, погладил по морде и сказал:
– Вот так. Лошадь – она для малого дела. А большое на себе таскать надо.
И пошел в избу – чай пить.
А сома того потом всей деревней ели неделю. И ещё соседям развозили, и на базар возили, и вялили, и солили, и уху варили. На всю зиму хватило. И долго потом в тех местах рассказывали: был мужик Лука, который сома поймал, лошадь пожалел, а сам впрягся и довёз.
3. Глина и справедливость
Год искал барин Луку.
Год!
Это вам не шутка. Крестьян тогда – как глины в карьере. Попробуй найди одного, если он специально прячется. А Лука не прятался. Жил себе, горшки делал, на базар ездил, только в тот уезд не совался, где барин тот проживал.
Но земля слухами полнится. Донесли. Нашли.
Приехали урядники. В избе – переполох. Бабка воет, дед крестится, мать Луки в ноги падает. А Лука стоит посреди избы, руки по швам, и молчит.
– Собирайся, – говорят. – К барину поедешь. Он тебя сам судить будет.
Дед котомку собрал – сухари, лук, смену портянок. И заплакал.
– Прости, Лука, это я тебя в тот день не удержал.
Лука погладил деда по голове – осторожно, чтобы не раздавить, – и сказал:
– Ничего, деда. Сибирь тоже земля.
Повезли.
А барин, надо сказать, за этот год остыл. Выпил, подумал, покумекал. Мужик-то какой пропадает! Два метра ростом, силища немереная, а смирный. С лица не пьющий, работящий. Таких днём с огнём не сыщешь.
Привезли Луку. Барин на крыльцо вышел, оглядел с головы до ног, прошёлся вокруг: пощупал плечо – как камень, руку – как железо, спину – косая сажень.
– Тот самый? – спрашивает урядников.
– Тот самый, ваше благородие. Горшков Лука прозывается.
Барин усмехнулся в усы.
– Ну что, Горшков, помнишь меня?
Лука молчит. Смотрит куда-то поверх головы барина в небо. А небо синее, морозное, и вороны кружат.
– Помнишь, как ты меня в сугроб опрокинул?
Лука переступил с ноги на ногу, но промолчал.
Барин вдруг как расхохочется!
– Ладно, – говорит. – Не буду я тебя в Сибирь. Ты мне самому нужен. Будешь у меня кучером. Чтоб таких быков, как ты, на дороге больше не встречать. А то перевернут ещё раз – ищи потом свои кости по сугробам.
Лука даже бровью не повел. Только спросил:
– А семья?
– Что – семья?
– С собой возьму?
Барин подумал, почесал затылок.
– Возьмёшь. Дом дам. Лошадей дам. Жить будешь при усадьбе. Жениться тебе надо, Горшков. Холостых кучеров не держу. Женатый он спокойней, женатый он на хозяйство завязан.
– Женюсь, – кивнул Лука. – На ком скажете.
Барин опять захохотал.
– Экий ты прямой, как оглобля! Ладно, есть у меня на примете одна. Дворовая. Ростом маленькая, метр с кепкой, в прыжке, как у нас говорят. Ты её в карман положишь. Как раз чтоб в санях рядом сидела: не тесно, и порожняком не ездить. А то такие бугаи, как ты, одни ездят: лошадям обидно, везут пустые сани.
И женил.
Привезли ту девушку – Феней звали – маленькую, кругленькую, с румянцем во всю щеку, с косами, уложенными короной. Глаза – как васильки во ржи. Ростом не вышла, зато глазом вострая, сразу видно – хозяюшка. Подошла к Луке, задрала голову, посмотрела снизу вверх и сказала:
– Ну, здорово, великан. Наклоняйся давай, целовать буду.
Лука наклонился. Поцеловал. И всё – приросло сердце. Потому что маленькие они такие, что в них силы больше, чем в иных больших. Потому что им за двоих стоять надо, за себя и за рост свой. Они, маленькие и цепкие. Глина в них другая: та, что на кирпич идет. Из них стены кладут.
Зажили. Дом дали: тёплый, крепкий. Лошадей дали – лучших. Лука барина возил – как пух в санях летал, ни одной кочки не пропустит, ни одного ухаба не срежет. Барин доволен, нахваливает. Дети пошли один за другим, все в отца ростом, в мать статью. Крепкие, ладные, работящие.
Так и текла жизнь. Медленно, как глина на круге. Дети подрастали, горшки звенели на базарах. Барин хлопал Луку по плечу и звал в кабак чай пить. Лука чай пить не отказывался, но больше двух чашек не осиливал: непривычно, да и жарко. Сидел, слушал, как барин про политику рассказывает, и думал о своём. О земле думал. О той, что кормит. О той, что помнит.
4. Глина и дорога
А в начале двадцатого века зашевелилась Россия. Как тесто в деже, как глина на круге – поехало всё, закрутилось. Земли захотелось мужикам, воли, простора. Переселенческое управление объявило: поезжайте в Сибирь, дадим наделы, подъёмные, льготы.
Лука к тому времени уже немолодой был. Дети выросли, внуки пошли. Барин, тот самый, уже помер, и наследники молодые хозяйство вели не так, не по-старинному. А тут – Сибирь. Земли – не пахано, леса – не рублено, простора – глазу не на что наткнуться.
Собрались Горшковы всей семьей. Долго думали, гадали. Маленькая Феня, уже седая, но всё такая же круглая и быстрая, сказала:
– Едем. Здесь мы люди пришлые, при бариновой милости. А там – сами себе хозяева. Там наша земля будет.
Собрали котомки, погрузили горшки – те, что получше, на память о старом ремесле, – и тронулись.
Ехали долго. Сначала поездом – теплушки. Дети, мешки, коровы мычат, куры кудахчут, мужики матерятся, бабы плачут. Потом подводами. По трактам сибирским, по ухабам, по грязи, по пыли. Везли с собой дом на колесах, веру, язык свой, говор нижегородский, окающий, певучий.
Приехали в Тобольскую губернию, в те места, что потом Омской областью стали. Осели. Построили дом. Снова горшки стали делать. Как же без горшков? И завертелась жизнь. Новая, сибирская.
А через несколько лет, когда уже совсем устроились, приехала к Фене женщина. Издалека приехала, из самой России. Гостинцы привезла, поклоны от родни, что там осталась.
Долго сидели, чай пили, плакали, вспоминали. А на прощание та женщина сказала:
– А помнят тебя в Россее, Феня. Помнят. И Луку твоего помнят. Как он того барина перевернул – до сих пор рассказывают. И про сома помнят. Легенда пошла.
Феня улыбнулась, вытерла слезу.
– Передай, – говорит, – что живы мы. Здоровы. Сыты. А барина того, дай Бог ему здоровья, добром поминаем. Хороший был барин, справедливый. Не сослал, а к себе взял. Спасибо ему.
Так и жили дальше.
5. Глина и время
Девятнадцатый год. Гражданская война гуляла по Сибири, как медведь по малиннику: всё трещало, ломалось, хрустело.
Шли через те места белогвардейцы. Усталые, злые, обмороженные, вшивые. При штабе обоз с ранеными и больными. Не с боевыми ранеными, а с тифозными. А тиф – хуже пули. Пуля убивает быстро, а тиф мучает долго, высасывает душу, сушит тело.
Понадобились им проводники, возчики, мужики, которые с лошадьми управляться умеют. Пришли к Горшковым.
Луке к тому времени уже под семьдесят. Но спина прямая, плечи широкие, руки те же – сковороды. Седая борода, глаза выцветшие, а смотрит всё так же: как из-под земли.
Забрали его. И ещё одного старика, соседа, тоже пожилого, тихого, богомольного.
Феня выла, в ноги кидалась, детей малых за подолы цепляла – не помогло.
– Надо, бабка, – сказали. – Война. Не тронем твоего старика, только довезёт до места и вернётся. Слово даём.
Слова тогда дёшево стоили. Грош цена им была, тем словам.
Повёз Лука тот обоз. Тифозных, умирающих, стонущих. Лошади чуяли беду, косились, храпели, идти не хотели. А он шёл. Потому что надо. Потому что он всегда делал, что надо, и никогда не спрашивал: «А почему я?»
Доехал. Вернее, почти доехал. Где-то под Новосибирском, в тех местах, где уже Обь широкая течёт, где ветры степные гуляют, где земля плоская, как стол, там и свалила его болезнь. Та самая, которую он вёз.
Умер Лука Горшков в девятнадцатом году. В чужой избе, на чужой печи, под чужой иконой. При нём был только тот самый старик-сосед, которого тоже забрали. Он и закрыл ему глаза.
Вернулся сосед домой через месяц: худой, чёрный, страшный. Вошёл в избу к Фене, перекрестился на образа, поклонился в пояс и сказал:
– Нет твоего Луки, Фенюшка. Преставился. Царство ему небесное, вечный покой. Хороший был мужик, правильный. До последнего горшки в уме лепил. Лежит, бредит, а руками в воздухе мнёт, будто глину гладит. И говорит: «Глина, она помнит. Она всё помнит. И дорогу помнит, и огонь помнит, и руки помнит. И сома того помнит... Только не выдавай нас, глина, никому не рассказывай...»
Феня выслушала. Помолчала. Встала. Подошла к печи, где стоял тот самый горшок: старый, треснутый, ещё из Нижегородской губернии привезённый, который они через всю Сибирь везли. Погладила его шершавый бок. И сказала тихо-тихо:
– Ничего. Глина помнит. Мы все в неё уйдем. А она нас сохранит.
Эпилог
Я открыла глаза. Всё тот же пустой дом. Всё та же пыль на подоконнике. Всё те же осколки стекла под ногами. И тишина.
Наверное, задремала. Наверное, мне всё приснилось. Или не приснилось?
Подошла к печи. В углу, в самом тёмном углу, стоял старый глиняный горшок. Треснутый, закопчённый, кривобокий. Я взяла его в руки. Он был тёплый. Хотя печь холодная уже много лет.
Тёплый.
И вдруг вспомнила. Мне рассказывали когда-то давно, в детстве, что в этом горшке моя прапрабабка Феня солила сомятину. Того самого сома, которого Лука поймал. И что сом тот был такой огромный, что хвост его по земле волочился, а лошадь не могла сдвинуть телегу. И что Лука выпряг лошадь и впрягся сам.
Я прижала горшок к груди и вышла из дома. Дверь за моей спиной вздохнула в последний раз и затихла.
За околицей садилось солнце. Большое, красное, как обожженная глина. И мне вдруг почудилось, что там, за горизонтом, стоит высокая фигура. Два метра ростом. Широкие плечи. Руки, которые держат горшок. А за спиной у него – река. И в реке той плещется огромный сом, старый, мудрый, усатый. Смотрит на Луку своими мутными глазами, и будто кланяется ему: помню, мол, помню, хозяин.
Лука смотрит на меня. Улыбается. И кивает: иди. Помни.
Я пойду. Я буду помнить.
Потому что мы все из одной глины. Только обожжённые по-разному.
2011 и февраль 2026